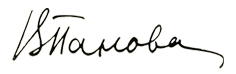В нашей гостиной три окна. Они выходят на Георгиевскую улицу. Георгиевской она зовется потому, что в одном ее конце, там, где выгон и мусорная свалка и где весной бывает ярмарка с качелями и каруселью, находится церковь св. Георгия. Эта церковь — армянская, мы живем в пригороде Ростова-на-Дону, так называемом Нахичеване-на-Дону, этот пригород густо заселен армянами. Когда мы ходим с няней гулять по Садовой улице, нам встречаются румяные усатые армянские мальчики в гимназической форме и девочки с синеватым отливом волос и с ресницами густыми, как щеточки…
Домик, где мы живем, принадлежит папиной сестре Антонине Ивановне Пановой, целое подворье принадлежит ей, много маленьких кирпичных домишек и деревянных лачуг, населенных самым что ни на есть бедным людом. Земля между лачугами заросла бурьяном, но кое-где среди бурьяна что-то цветет, но не настоящие красивые цветы, а дикие и полудикие — повилика с маленькими розовыми граммофончиками, горьковато пахнущими, белесая кашка и дикий цикорий — его голубые звездочки открываются утром, а уже к полудню становятся серыми, мятыми, какими-то клейкими — умирают. Еще цвела на пустыре красноватая зорька и повитель — на Украине она зовется крученый паныч — цветок милый, который люблю всю жизнь.
Там и сям над бурьяном были протянуты веревки с бельем, и этот вид болтающегося тряпья, и запахи детских пеленок, пригорелой каши и водки, несущиеся из всех выходивших во двор окошек, — эти виды и запахи нищеты окружали меня с детства.
Наша семья жила иначе, в нашей квартирке было чисто, водки у нас не пили, папа пил только пиво, да иногда пили вишневую наливку, бутылки с вишней, засыпанной сахаром, всегда стояли между оконными рамами. Бабушка Надежда Николаевна не любила, чтобы я играла во дворе с детьми, кликала домой или посылала гулять с няней.
Из крайнего окна нашей гостиной была видна большая лавка, куда ходили за разной снедью, и кирпичная водокачка, куда ходили по воду, перед водокачкой всегда стояли в очереди женщины с ведрами на коромыслах.
Весь день под окнами раздавались выкрики:
— Вы-шан! Вы-шан! — Это с двумя корзинами на коромысле кричали в летний день бабы, продававшие вишни, их руки выше локтя были в вишневом соку.
— Угольков, уголько-о-ов! — кричал с воза мужик, торговавший древесным углем.
Печи у нас топили углем каменным, древесный шел для самовара, покупали его много.
— Бубликаф! Бубликаф! — кричала бубличница.
— Стары вещи покупать! Стары вещи покупать! — скупщик старья.
— Кваску! Кваску!
— Верочка, квасник пошел, — говорила маме бабушка Надежда Николаевна, любившая квас. Я тоже его любила, но мне не давали, как не давали вволю и вишен, и черешен, которыми был в то время завален Ростов. Мама больше всего боялась, чтоб у нас с братом Леничкой не испортился желудок, а что детям в первую очередь нужны фрукты, а уж потом — говядина, бублики и прочее, этого тогда еще не знали, может быть, именно поэтому мы, несмотря на обильную и добротную пищу, росли не очень здоровыми, вялыми и бледными.
У этого крайнего окна гостиной я себя помню на руках у тети Лили (другая папина сестра) в какую-то ночь. Улица за окном странно освещена, такого освещения я еще не видела, и небо странное, все красное. Тетя Лиля уговаривает меня, но мне становится страшно, я кричу. Прибегает мама, отнимает меня у тети Лили, уносит. Лежа в своей кроватке, я слышу какую-то ссору. Потом, не скоро, я узнала, что мама сердилась, выговаривала тете Лиле, зачем та потащила меня смотреть на зарево пожара и испугала, а тетя Лиля, вспыльчивая до горячности, как все Пановы, обиделась на маму и, в сущности, никогда ей до конца не простила этого выговора, и навсегда между ними остался холодок, которого обе не умели скрыть.
И еще помню себя у этого окна с няней. Мы стоим и смотрим на нашу Георгиевскую улицу, а по улице много людей несут длинный металлический, словно серебряный, гроб. За гробом едут извозчики. В пролетках сидят мужчины в черных котелках. Они придерживают венки, стоящие у их ног: железные, ярко раскрашенные венки и венки из живых цветов. У некоторых лошадей головы украшены белыми султанами. Няня положила руку мне на голову и говорит:
— Скажи, Верочка: «Упокой, господи, моего папу».
Я произношу это, и хотя мне еще не рассказали все подробно, как рассказали позже, но я уже в полной мере чувствую боль и непоправимость происшедшего.
Панова, В. Ф. Мое и только мое : о моей жизни, книгах и читателях. Санкт-Петербург., 2005. С. 9–12.