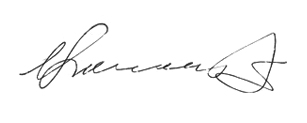Стоял тёплый вечер, мостки скрипели и качались, на берегу кто-то жёг костёр, оттуда неслись нестройные мужские голоса. Я прислушался — голоса вдруг соединились в хор, вступила гармонь и понеслись звуки песни. Что-то странное вдруг сделалось со мной от этой песни: она казалась знакомой, хотя я точно знал, что слышу её впервые; в ней была дразнящая стройность мелодии, я пытался её запомнить, но чувствовал, что не удержу: это была какая-то странная песня, без нашей жалобности, без нашей грусти — но с какой-то иной грустью, суховатой, мужской, горькой.
— Что это? — крикнул я. Борис поднял голову, не понимая. — Что за песня? — спросил я.
— Казачья — ответил он и вновь наклонился к свои замкам. И тут всё виденное накануне соединилось в моём сознании: и огромный собор с могилой Платова, и плоская степь, и ширь обмелевшего Дона, и светлоусые новочеркасские прохожие, и мелькнувшие в разговоре слова: атаманский дворец, и вот песня… «Боже, это Дон, — подумал я. — Это же половина моей крови».
Аннинский, Л. А. Жизнь Иванова. — Москва, 2005. — С. 709.